
ОСНОВНАЯ | ВВЕДЕННИЕ | ТЕОРИЯ | АСТРОЛОГИЯ | МАТЕРИАЛЫ | ЛАБОРАТОРИЯ | ПРАКТИКА | СТАТЬИ
«Иероглифические фигуры» Никола Фламеля
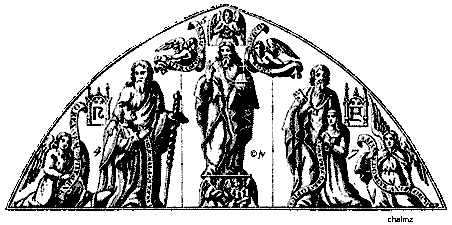
История Фламеля весьма интересна, некоторое представление о ней уже было дано в начале исследования, теперь проанализируем ее подробнее, что бы определить имеет ли она отношение к герметической кабале. Рассмотрим то, как ее интерпретирует Фулканелли. Для этого приведем две небольшие цитаты из предисловия Глеба Бутузова к «Фигурам»:
«Например, где-то на середине своего пути в Галисию, Фламель останавливается в Монжуа, городе, название которого он пишет как Montjoye; во Франции есть только один Montjoi, лангедокский городок недалеко от Перпиньяна, каковой никак не мог оказаться у него на пути, поскольку расположен гораздо ближе к Средиземному морю, чем к Бискайскому заливу. Есть другой город, который подходит на эту роль – кастильский город Монтехо (Montejo), однако переводить его название на французский как Монжуа, мягко говоря, некорректно, - если только название это, то есть Гора Радости (Mont-joie), не играет очень важной роли во всей истории паломничества: Гора Радости Философов, над которой сияет звезда Святого Иакова Компостельского (Compo-stela, звездное поле)... Быть может, и другие названия – и имена – имеют столь же важное значение в повествовании Фламеля? Фулканелли, par excellence адепт ХХ века, в своем труде «Обители Философов» разъяснил алхимическое значение каждого символа – а ими являются практически все имена собственные, – в книге Фламеля «Иероглифические Фигуры». Разъяснил, и сделал вывод, что персонаж, носящий фамилию Фламель, совершил свое длительное и плодотворное паломничество к Святому Иакову, не выходя за пределы лаборатории в подвале дома на углу улицы Писарей и Мариво. К этой мысли мы еще вернемся позднее».
Следующая цитата:
«Теперь попробуем проследить, к чему нас может привести поиск других символов в жизни этого адепта, для чего обратимся к упоминавшейся выше работе Фулканелли. В «Обителях Философов» автор напоминает нам, что, согласно легенде, Раймонд Луллий также совершил паломничество к Сантьяго де Компостелла (ровно за сто лет до Фламеля), и что большинство адептов во все времена прибегали к подобной же аллегорической форме изображения своего пути познания материи и обретения Философского Камня. Что же касается главного героя книги «Иероглифические Фигуры», то Фулканелли указывает на символичность его имени: Николя по-гречески значит «победитель камня» (Niko-laos); фамилия же Фламель происходит от латинского Flamma, то есть «пламя», или «огонь». В свою очередь имя обретенного Фламелем в Испании учителя, мэтра Канчеса, представляет собой аллегорическое название белого сульфура Философов, характерной особенностью которого является сухость (по-гречески Kagcanox). Последователь «сухого пути» в алхимии, Фулканелли немедленно обращает внимание на странное решение, которое после знакомства Николя с Канчесом принимают компаньоны – они решают добираться до Франции морем, а не по земле, что символизирует «влажный путь», которому в итоге отдается предпочтение. Фламель, то есть огонь, благополучно добирается до Орлеана (or-lйans, что можно перевести как «там находится золото»), в то время как Канчес, то есть сульфур, погибает вследствие продолжительной рвоты, каковая в алхимии есть признак растворения и разложения – тот самый труп, изображенный на Фламалевом надгробии под надписью Domine Deus in tua misericordia speravi. Изначально же, нам следовало бы обратить внимание на одну странную деталь: дорогая старинная книга досталась Фламелю всего за два флорина, чему он искренне удивляется в предисловии к «Иероглифическим Фигурам». Дело в том, что эти самые два флорина и есть примерная необходимая сумма для приобретения материалов, используемых в Великом Делании, - в соответствии с экономическими условиями четырнадцатого столетия. В середине семнадцатого века Ириний Филалет называет несколько отличную цифру: «Как ты видишь, работа наша стоит не более трех флоринов…», что с учетом инфляции вполне совпадает с рекомендациями Фламеля. К началу XII века папирус полностью выходит из употребеления, и тот факт, что книга была написана «на коре молодых деревьев», конечно же, указывает на египетское и «древнее» происхождение книги, но кроме этого – что гораздо важнее – еще указывает на металлическую природу Первоматерии в рамках алхимической символики. Что же получается? Не только мэтр Канчес и паломничество в Галисию могут считаться аллегорией и мистификацией, но и сам господин Фламель со своим хозяйством, домом, женой и благотворительностью, оказывается не более чем литературным персонажем. Не слишком ли это, даже при всем уважении к имени Фулканелли? Нет, не слишком. Но наличие аллегории и мистификации совсем не означает ложности или незначительности личности автора и его трудов; совсем напротив, в случае алхимии, вопросы аутентичности произведений и времени их написания предстают сложнейшими, и часто неразрешимыми, загадками – и чем важнее труд, тем сложнее загадка».
Глеб Бутузов предисловие к книге Никола Фламель Алхимия СПБ., 2001 "Фламель, алхимия и колесо истории" стр. 16-17 и 22-23
Разумеется, весь анализ имен не что иное как герметическая кабала применяемая адептом для того, чтобы прояснить символизм истории в которой как ему кажется зашифрован алхимический процесс. Трактовка данная Мастером сделанная в рамках Традиции логична, но в этой истории далеко не все так просто. Дело в том, что Фулканелли априори считает, что описание биографии Фламеля носит алхимический смысл и приводит доказательства этому. Однако при всем уважении к Мастеру позволю себе, не во всем согласится с ним и теми, кто разделяет эту точку зрения. Предисловие к «Иероглифическим фигурам» безусловно, можно интерпретировать как зашифрованное описание Великого Делания. Богатство и универсальность алхимической символики, равно как и желание найти искомое позволяют это сделать, но написано ли предисловие алхимиком и закладывал ли в него автор тайный алхимический смысл это еще вопрос. Взглянем на всю эту историю с иной, альтернативной точки зрения.
«Другими словами, перед нами типичный по своему «анамнезу» алхимический трактат – книга, написанная примерно двести лет с момента смерти предполагаемого автора и основанная на произведении, которого никогда не существовало. Настоящим автором ее вполне мог быть издатель или – кто знает? – адепт 16 века, навсегда исчезнувший под маской общественного писаря Никола Фламеля».
Никола Фламель Алхимия СПБ., 2001 стр. 28
Наиболее вероятна, конечна вторая версия, хотя и с оговорками. Оговорками, весьма существенными. Все почему-то считают, что автором «Фигур» был один человек. А собственно, почему один, а не несколько? Постановка вопроса в таком ракурсе может показаться необычной но, тем не менее, это один из ключей к разгадке тайн Фламеля. Обратите внимание на то, что фактически все кто пишет о Фламеле, почти дословно повторяют содержание автобиографического предисловия «Иероглифических фигур», и мало кто интересуется собственно основной частью трактата - алхимической интерпретацией арки кладбища «Невинных». В этом обстоятельстве нет ничего удивительного, вся история Николаса Фламмеля и стала столь известной только из-за интриги созданной вокруг загадочной еврейской книги «Авраама Еврея» описанной в предисловии – это неоспоримый факт. Однако при изучении ВСЕГО текста, несложно заметить ряд особенностей позволяющих сделать предположение, что трактат написан не одним, а двумя авторами. Речь идет о том, что предисловие и алхимическая интерпретация кладбищенских фигур написаны разными людьми. Т.е. первоначально некий автор дал алхимическую интерпретацию фигур изображенных на арке кладбища «Невинных». После чего другой автор, воспользовавшись рукописью, дописал предисловие, с рассказом о придуманной им таинственной еврейской книге и ее вымышленной роли в жизни реально жившего нотариуса Николаса Фламеля и кое-как состыковал сюжет с остальной частью текста внеся в нее некоторые дополнения. После чего трактат был опубликован. Версия возможно неожиданная, но, тем не менее, основания для нее есть. Рассмотрим их подробнее:
«На второй стороне пятого листа был изображен король, с коротким и мощным мечом в руках, по приказу которого и в его присутствии солдаты умерщвляли множество грудных младенцев; … Поскольку эта сцена в большой мере отражает избиение невинных младенце царем Иродом, а я узнал искусство по большей части благодаря этой книге, я решил поместить иероглифические символы тайной науки именно на Кладбище Невинных».
Никола Фламель Алхимия СПБ., 2001 стр. 42
«… я решил достоверно изобразить на четвертой арке Кладбища Невинных, если войти в него через большие ворота на улице Сен-Дени и свернуть на право, наиболее важные секреты искусства, все же скрыв их под покровом Иероглифических фигур, повторяющих те, что встретились мне в богато украшенной книге Авраама Еврея»...
Никола Фламель Алхимия СПБ., 2001 стр. 54
Утверждение идентичности фигур на кладбище и символов «Авраама» очень четкое и ясное, как и утверждение того, что, фактически все свои алхимические знания Фламель приобрел в еврейской книге. Теперь посмотрим в чем именно (по утверждению Фламеля в предисловии) «Иероглифические фигуры» повторяют символы «Авраама Еврея». Собственно кроме изображения избиения невинных младенцев ни чем. Но автор схитрил, пойдя на небольшую уловку. Он не смог связать в тексте описанные им символы «Авраама Еврея» с символами на арке и их алхимической трактовке сделанной вторым автором. Но он сделал следующее - соотнес мифическое путешествие Фламеля и его результат с изображением Николаса Фламеля и его жены Пернель на арке следующим способом:
«Итак, получив согласие Пернель и взяв с собой выдержки из книги, а так же накидку и посох пилигрима, другими словами – в соответствии с тем, как я изобразил себя на упомянутой арке вместе с Иероглифическими фигурами, на Кладбище Невинных, где я также изобразил по обе стороны процессию, порядок которой представляет все цвета Камня»...
Никола Фламель Алхимия СПБ., 2001 стр. 46
Далее:
«Но в конце концов я справился и с этим, после трех лет проб и ошибок, в течении которых я только и делал, что учился и трудился, в точности как вы видите это на вышеописанной арке (там, где я поместил меж двух ее колонн изображение процессии, под святым Иоанном и Иаковом), на которой я запечатлен молящимся Господу, с четками в руках, внимательно читающим книгу, обдумывающий слова философов»...
Никола Фламель Алхимия СПБ., 2001 стр. 50-51
Интересно, правда? Самое же занятное в том, что в основной части трактата нет ни единого упоминания об этом путешествии, что собственно не удивительно. Вставить такую деталь в алхимическую интерпретацию сделанную вторым автором сложно. По этому автор предисловия ограничивается только вот этой весьма поверхностной подгонкой своего собственного сюжета с изображениями на арке и остальной частью трактата. Однако это не все, кроме своей фантазии он использует еще и вставки из основной части. Для большей правдоподобности упоминается следующее:
«Дабы дать понять, что я совершил магистерий трижды, я изобразил на упомянутой арке (только для тех, кто сможет узнать их) три печи, сходные с теми, какие используются для наших операций».
Никола Фламель Алхимия СПБ., 2001 стр. 53
Этот отрывок текста является повторением сказанного в первой главе:
«...(другими словами, Философский Сосуд, если убрать тесемки и опустить ручки в чернильницу), ни другие, подобные этому и расположенные подле фигур святых Петра и Павла, в которых видны буквы N, то есть Никола, и F, Фламель. Поскольку эти сосуды изображают не , что иное как подобие, его смысл в том, что я завершил магистерий трижды».
Никола Фламель Алхимия СПБ., 2001 стр. 58
Есть еще один весьма интересный момент в предисловии. А именно роль жены Фламеля в сюжете. В предисловии ясно сказано, что жена разделяла интерес мужа к алхимии и что она сама могла без труда самостоятельно свершить Великое Делание. В данном случае это тоже не находит подтверждения в основной части текста, как впрочем и все остальные персонажи предисловия (мэтры Ансольм и Канчес) и все описанные в нем события. Вот собственно и все. Т.е это фактически все, на что сейчас следует обратить внимание. Теперь рассмотрим то, как автор предисловия соотнес свой вымысел с основной частью трактата путем внесения изменений в исходный текст. Для этого приведем все сделанные им упоминания о «Книге Авраама Еврея» в остальной части текста. Их три:
«Печь – ее обыденное название, чего бы я никогда не смог выяснить, если бы Авраам Еврей не нарисовал ее, а так же огонь, соблюдая пропорцию, в чем заключается весьма важная тайна».
Никола Фламель Алхимия СПБ., 2001 стр. 69
Очень странно, особенно странно то о чем написано далее, о пропорции огня:
«Если огонь не ограничен, как при хлебопечении как говорит перс Халид, сын Йазида; если он зажжен клинком, говорит Пифагор, если ты нагреваешь свой сосуд огнем, говорит Мориен»...
Никола Фламель Алхимия СПБ., 2001 стр. 69
Странно не то, что говорят алхимики о пропорции огня, а то, что по утверждению Фламеля он понял ее со слов «Авраама». Если это так, то зачем упоминать о словах других алхимиков? Ясно, что это просто неудачная вставка в авторский текст. Далее:
«Эти две спермы – мужская и женская, - описанные мной в начале моего Краткого изложения философии, порождаемые во чреве и внутренностях четырех стихий (что согласуется с Разесом, Авиценной и Авраамом Евреем)».
Никола Фламель Алхимия СПБ., 2001 стр. 76
Как видно упоминание о «Аврааме Еврее» является просто добавлением его имени к алхимикам, на которых ссылается автор второй части. Следующая цитата весьма похожа на предыдущую:
«Поскольку на данном этапе я допустил ошибку, не последовав советам Авраама Еврея, я решил изобразить для тебя фигуру, держащую обнаженный меч, в цвете, который тебе необходим, и эта фигура указывает на отбеливание».
Никола Фламель Алхимия СПБ., 2001 стр. 102
Если рассмотреть текст, но не много не так, убрав «Авраама», то изменится ли смысл? - Поскольку на данном этапе я допустил ошибку, я решил изобразить для тебя фигуру, держащую обнаженный меч, в цвете, который тебе необходим, и эта фигура указывает на отбеливание. - Фактически нет.
«Тот же, кто хорошо взвесит мои слова, хорошенько изучит и поймет мои фигуры (зная, кроме того, первичные принципы и первичные агенты, потому, что среди фигур и комментариев к ним он не найдет их описания) и завершит к славе Божией магистерий Гермеса»...
Никола Фламель Алхимия СПБ., 2001 стр. 56
Все правильно в основной части текста даны только намеки на первичный агент, автор же предисловия большой хитрец и в описании гравюр книги «Авраама Еврея» он прямо пишет, что:
«Начиная с третьего листа и далее, чтобы помочь своему подневольному народу платить дань римскому императору и для других целей, о которых я говорить не буду, он в простых словах учил трансмутации металлов; на полях помещались изображения сосудов, которые были окрашены в соответствующие цвета, а так же многое другое – все за исключением исходного материала, о котором он не сказал ни слова, но только лишь на четвертом и пятом листах он изобразил его и раскрасил с большой ловкостью и мастерством».
Никола Фламель Алхимия СПБ., 2001 стр. 40
«И когда я сказал ему, что это было изображено только с целью описания первичного агента (так было указанно в книге)».
Никола Фламель Алхимия СПБ., 2001 стр. 44-45
Если совсем просто, то автор предисловия как бы раскрывает загадку, ответа на которую нет (точнее есть только намеки) во второй части текста – тайну первичного агента, утверждая, что его изображение есть в книге Авраама Еврея. Именно по этому автор предисловия не описывает алхимический процесс якобы изложенный в его книге. Для этого он делает ссылку на то, что он не может этого сделать т.к. Господь покарает его за это. Довольно странное утверждение, если предположить, что он написал и вторую часть. Иными словами он как бы дополняет своим предисловием (описанием первичного агента) изложенный другим автором алхимический процесс.
Начнем с авторства. Есть две основные категории исследователей «Иероглифических фигур» мнения, которых об авторе трактата диаметрально противоположны. Первые утверждают, что текст действительно написан нотариусом Никола Фламелем жившем в Париже в 14 веке и все в нем от первого до последнего слова сущая, правда. Вторые считают, что трактат написан гораздо позже, чем это утверждается в тексте (за некоторое время до его публикации в 1612 году) и, что его автор просто использовал в качестве псевдонима имя Никола Фламель. Соответственно и отношение к изложенному в книге у этой категории исследователей несколько иное. Глеб Бутузов в предисловии к «Фигурам», «Фламель, алхимия и колесо истории» пишет следующее:
Отметим главное, - при изучении всего текста «Фигур» не сложно заметить, что автобиографическое предисловие Фламмеля является самостоятельным произведением, связь которого с остальным текстом трактата весьма условна. Это видно из следующего:
1. В предисловии четко сказано, что иероглифические фигуры размещенные на кладбище «Невинных» являются повторением символов книги «Авраама Еврея». Что весьма спорно.
2. Там же Фламель утверждает, что все алхимические процессы были ясно описаны в книге «Авраама Еврея» и он не знал только, что представляет собой первовещество т.к. его символическое изображение у «Авраама» было ему непонятно. Соответственно когда еврей Канчес объяснил ему, как нужно интерпретировать символы «Авраама» Фламель (только благодаря этому) смог получить Философский Камень. Т.е. в предисловии прямо сказано, что все свои знания о алхимии Фламель фактически получил только из книги «Авраам Еврея». Это еще одна несуразица – алхимическая интерпретация теологических фигур размещенных на четвертой арке кладбища «Невинных» построена на анализе работ таких алхимиков как Халид, Пифагор, Разес, Гермес, Мориен, Орфей и др. а не на мифической еврейской книге о которой говорит автор предисловия. Кроме того, в предисловии кроме ссылок на «Авраама» фактически нет прямых цитат из других алхимических источников.
3. Все описанные события в «автобиографии» фактически не находят подтверждения в основной части текста. А все схожие моменты предисловия и основной части являются подтасовкой сделанной вторым автором.
Воспользуемся для доказательства этого цитатами:
Вот и все упоминания о главном алхимическом источнике (благодаря которому Фламель якобы обрел секрет Философского Камня) в основной части текста. Нестыковки двух частей трактата огромны, их не заметили только из-за того, что большинство исследователей рассматривало только предисловие, считая его самой интересной частью книги. Однако есть еще кое-что, что следует объяснить здесь же. Это то как автор предисловия оправдывает возникновение книги «Авраама». Основная часть «Фигур», как и предисловие, являются самостоятельными произведениями, а так как предисловие написано позже, то его автору надо было обосновать для алхимиков его «алхимическую необходимость». Это было сделано следующим образом:
Конечно, можно предположить и иное. А именно, что автор основной части для того, чтобы издать свой трактат, для интриги и в качестве рекламного трюка придумал книгу «Авраама» и сам дописал предисловие. Эта версия хоть и любопытна, но в ней нет ничего странного. Многие для того, чтобы издать свои работы прибегали к спонсорской помощи и за это посвящали книги своим покровителям, или дорабатывали их в соответствии с пожеланиями толстосумов. Но все не так просто. Автор написавший основную часть был алхимиком, это не подлежит сомнению, но вот при изучении «алхимической составляющей» предисловия возникает сомнение написано ли оно тоже алхимиком? Почему такое сомнение вообще возникает. Все дело в том, что в предисловии есть довольно много странных мест, объяснить которые довольно сложно, если считать, что автором всего трактата был один человек. Но если принять версию того, что авторов двое и второй автор мало разбирался в алхимии, то все становится на свои места. Это, видно хотя бы из того факта, что если бы автор предисловия был алхимиком, то он мог бы переписать основную часть трактата более правдоподобно в свете изложенной им истории с книгой «Авраама Еврея» вставив в основную часть текста не три ссылки на нее, а пятьдесят три. Теперь рассмотрим странности встречающиеся в предисловии по порядку и начнем естественно с «Книги Авраама Еврея».


